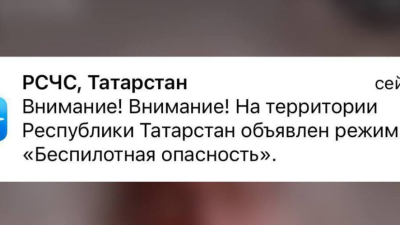Художник об активном способе проживания истории и значении январских событий для этого процесса
В начале июля в Алматы открылась персональная выставка художника Асхата Ахмедьярова «Үміт». В нескольких инсталляциях, видео-арте и серии портретов он размышляет о крупнейших потрясениях, затронувших Казахстан в последние сто лет, а также исследует само ощущение присутствия человека в истории. Власть поговорила с Ахмедьяровым об истории как предмете художественного осмысления, активном способе её проживания через акционизм и значении Қантар для этого процесса.
В сопроводительном тексте к выставке упоминалась история о том, что однажды какой-то высокопоставленный силовик подошел к вам и с досадой сказал: почему ты не пишешь пейзажи. Действительно, почему?
Дело в том, что этот чиновник сначала заказал мне портрет одного из батыров кому-то в подарок. Я раньше занимался таким, делал заказы в фигуративном жанре, чтобы как-то экономически себя поддержать. Но сейчас уже отошел от этого. И все же мы встретились ещё раз, когда в декабре 2016 года я делал акцию ко Дню независимости. В тот день произошло усиление всего состава на площадях Астаны, чтобы на них ничего не проводилось. Перед Байтереком была огромная надпись в честь праздника, посвященная очередной годовщине независимости. И мне было важно использовать эту надпись, но кругом было оцепление, везде расставлены полицейские. Одна активистка мне помогла, посоветовав провести перформанс во время обеда − с часу до двух. Оказалось, что в это время все обедают. Я так и сделал: надел в это время форму нефтяника, и изобразил одного из 16 убитых жанаозенцев. А помогавшая активистка описала моё тело, лежащее на площади. Когда я исполнил акцию, мы вылили видео в интернет. Информация пошла, и тот чиновник вызвал меня. Он был очень зол, что я сделал это вопреки усилению. Тогда он мне и сказал, что нужно писать пейзажи − жайляу, горы, − заниматься мирным делом, а не акционизмом. Я же ответил, что не могу, потому что чувствую какую-то ответственность. И тогда он сказал, что мною занимаются серьёзные организации и мне нужно быть осторожным. И вполне возможно, что заниматься будут не мною, а моими детьми.
В начале карьеры передо мной стояла дилемма: заниматься пейзажной живописью или актуальным искусством. Я ещё долгое время не мог отойти от фигуративного жанра и от каких-то своих эксцентричных взглядов на жизнь. По мере взросления все равно приходишь к тому, что нужно отбрасывать шелуху, оставлять самое ценное. Я стал заниматься актуальным жанром, фокусируясь на локальном материале, и стремясь к тому, чтобы мои работы были в резонансе со своим временем. Во мне есть какое-то волнение за то, что происходит в общем. Пусть и бывает опасно это выражать через искусство. Иногда получается так, что у меня есть лобовое выражение или трактовка события. Такого не должно быть в современном искусстве. Но я также использую иронию, рассматриваю проблемы с философских позиций.

Этот философский момент чувствуется по канве выставки. Как мне показалось, она говорит о самом ощущении истории и активном способе её проживания. На это намекает и отсылка к обстоятельствам жизни вашей бабушки Үміт, которая застала все крупные потрясения советской модернизации.
Да, все так. Ещё в школе я увлекался историей. Рисование тоже было мне интересно. Я стал думать о том, как все это можно совместить. И мне стало казаться, что это пахнет иллюстративным жанром. Но мне хотелось чего-то большего. Я не смог совместить историю с иллюстрацией. Интерес к истории, тем не менее, постоянно укреплялся. Если говорить не об академическом подходе, а с позиции простого человека, который воспринимает историю, то основным рассказчиком как раз и была моя бабушка − ровесница ХХ века. Искусствовед Валерия Ибраева пошутила на этот счет: сидит мужик в годах и умиленно рассказывает о бабуле. Тут важно объяснить: всё-таки через её фигуру проявляется человеческий аспект в истории, который для меня очень важен.
Один из фрагментов её повествования касался вопроса о том, кем для нас были белые и красные в период революции 1917 года. Бабушка − женщина степи − говорила, что внешне между ними не было отличий. Была разница в отношении к людям: одни грабили, тогда как другие уходили, если им говорили, что еды нет. Разумеется, были и другие отличия, иначе бы каждая сторона начала воевать сама с собой. Если смотреть на это современным, критическим взглядом, то на первый план выходит политическая интерпретация событий, а не наблюдения простых людей. И белые, и красные были колонизаторами. Эта деталь многое меняет. Интересно сопоставлять эту разницу в трактовках, как работают два этих объяснения и во что они вылились. Интересно смотреть на то, что обрела и потеряла Россия, как колонизатор, что обрели и потеряли мы, к чему мы все теперь стремимся. В России, например, сейчас видны все те же звериные повадки красных. Осмысление, переживание самого процесса изменений прошлого столетия, очень ценно для меня.
А как вы сами осмысляли закодированные в ваших работах события прошлого столетия: от Ашаршылық, до Желтоқсан?
Бабушка заложила азы, а дальше все складывалось по-разному. Например, что касается Ашаршылық, то долгое время мы знали о нём короткими фрагментами, но без прямой ссылки на человеческий фактор, на политику. Бабушка говорила о джуте, о том, что скот разбрелся в то время. Но политический мотив она не рассматривала: либо не знала, либо запрещала себе об этом говорить. Родители говорили об этом в виде драмы. Это были душераздирающие истории, которые запомнились мне через одну песню. В ней рассказывается о том, как родители не уберегли ребёнка. Муж и жена брели по степи с младенцем, и в один момент муж стал намекать на то, что его нужно съесть, чтобы выжить. Жена пыталась избежать этого до последней секунды, надеясь вскоре найти селение. В какой-то момент она оставляет ребёнка мужу, чтобы обойти сопку и увидеть селение. Когда женщина вернулась, ребёнка уже не было. Нам долгое время не говорили о политической стороне, что голод наступил после раскулачивания, и в этом виноваты красные. Постепенно, в эпоху гласности и независимости, мы узнали новые факты, и это было просто ужасно. Разница между тем как ты переживаешь травму Ашаршылық, и тем, как она в полной мере проявилась через время, казалась кошмарной.

Другой пример − ядерные испытания на Семипалатинском полигоне, которые я застал уже сам и видел, как несколько моих знакомых погибли от них. Полигон находится на западе страны, достаточно далеко от места, где я жил. После школы я поступил в художественное училище, мне там не понравилось, я решил уйти, но меня уговорили взять академический отпуск и поработать преподавателем в школе. В это время школьный военрук поехал на учения в Семипалатинск. Он был там две недели, а после возвращения начал болеть. Оказалось, что это облучение. И таких историй было множество. Уже потом мы началиг понимать, что Казахстану испытания в Семипалатинске были не нужны. Потребность в них была у империи. Но тогда мы не могли так думать. Мы считали, что если куда-то направили, значит в этом нуждается Родина. Мы радовались его закрытию, казалось, что это победа. Но спустя время стало понятно, что мало что изменилось: сейчас 7 российских полигонов расположены по всему периметру Казахстана.
Мы взяли независимость довольно условно, потому что осталось много нерешенных вопросов с прошлой и настоящей империей. Более того, мы до сих пор остаемся частью этой империи.
Интересно как вы понимаете отношения акционизма и истории. Даже сейчас, защищая урочище Босжыра или группу озер Малый Талдыколь, кажется, что вы отзываетесь не только на связанные с ними события, но и на что-то большее − саму динамику истории.
Акционизм я выбрал потому, что реально переживаю о событиях в стране и стремлюсь их переживать. И иногда кажется, что ты можешь предвидеть их. В декабре прошлого года я ехал на машине из Астаны в Алматы с каким-то проектом. На улице был плотный туман, и он казался бесконечным, держался на протяжении довольно большого промежутка дороги. Мне это показалось странным. Обычно, когда я встречаю какое-то явление или незначительный эпизод, я связываю их с событиями большого масштаба, связанными со страной или миром − такая у меня дурацкая привычка. Туман навел меня на мысль, что все это не к добру. И уже в январе происходит то, что всех нас очень сильно потрясло.
Какая связь с туманом? Туман − это неразбериха, но мы все равно пытаемся что-то понять в этой ситуации. Факты, реальная картина и причины событий скрыты, власти максимально пытались сделать это. Вместо этого ссылались на 20 тысяч террористов из-за границы, начали искать их среди активистов, кого-то расстреляли на площади или запытали. Мы действительно оказались в политическом тумане, понимая лишь то, что разные группы власти перетягивали между собой канат, а жертвами оказались ни в чем неповинные люди. Они лишь требовали перемен, не были радикалами, но попали в жернова этих событий.
Так получилось, что проект «Квадратное солнце», для которого я писал портреты с использованием пороха, начался раньше январских потрясений. Но он содержит их прямой и косвенный отголосок. Первыми я запечатлел военнопленных середины XX века, и тут эту мировую логику продолжили местные январские события. Мирное время внезапно стало военным, и пытки местами оказались хуже, чем испытания во время Второй мировой войны. Это также ставит вопрос о том, кто те люди, которые ходят среди нас, но в какой-то момент могут переодеться и начать громить мирную жизнь. И как люди, исполняя свои служебные обязанности, могут начать заниматься пытками. В какой момент стирается эта грань между исполнением своих обязанностей и нарушением каких-то норм? Интересно, что если вышестоящий над тобой скажет: сейчас можешь убивать, мы тебе разрешаем стрелять на поражение, то, оказывается, для человека ничего не стоит превратиться в хищника. Он будет заниматься пытками со страшной агрессией и безумной фантазией.

На этой выставке не было акции, и это выглядит очень нетипично для вас. Почему вы решили обойтись без неё?
Для меня крайне важно, чтобы площадка для действия была нехудожественной − это даёт ощущение риска. Там, где публика подготовлена, риск не ощущается. Меня мотивирует эта опасность, ощущение неизвестности того, что произойдет после акции. Если говорить об Астане, город построен с учетом того, чтобы в нём не проходили митинги. Там очень большие пространства, которые потенциально могут очень хорошо просматриваться по требованию властей, подавляющих любые попытки добиться изменений. И когда попадаешь в Астану с каким-то протестным намерением, желая провести одиночный пикет или сделать что-то совместное с группой, архитектура и само пространство города тебя парализуют. Усиливает это северный ветер и отсутствие прохожих на улице. И меня привлекает делать что-то в таких условиях, перед монументами, во время полицейского усиления.
Даже несмотря на то, что на выставке показаны объекты, они кажутся действующими, продолжающими ваши акции. Они активны в том смысле, что через взаимодействие с каждой из работ ты переживаешь структурное насилие как постоянный процесс, равно как и акты противодействия ему.
Такого эффекта получилось достичь после долгого осмысления. Вообще погрузиться в предмет исследования − это очень трудоемкий процесс. В этой выставке получилось найти понимание у галереи, у организаторов. Появилась возможность посмотреть на все с достаточно глубоких позиций. Не в пример этой выставке, бывают случаи, когда организаторы не вникают в суть проекта, пытаются изменить его, сделать менее критическим и коммерческим. Это влияет на художника, он становится мельче.
В перевернутых казанах в работе «Сабыр» считывается решающий момент вражды, борьбы и насилия, в результате которых они оказываются опустошены и перевернуты. Как вы раскрываете для себя и других эту метафору конфликта?
Впервые я увидел перевернутый казан в 90-х годах. Он лежал на пологой крыше чулана в одном доме. Его хозяин, мужчина, лишился жены − она погибла от рака. Он повторно женился, но в знак памяти перевернул два казана. Там лежали разные инструменты, отжившие свой век. Казаны очень выделялись среди них. Тогда я ещё не понимал почему они перевернуты. Спустя время я понял, каким сакральным значением казахи, будучи кочевниками, наделяли казаны. Сегодня мы живем в другое время, поэтому казаны уже не являются табуированным предметом для высказывания. Но когда в 2016 году в Астане я выставил бабушкин оберег, который затем побывал в Лондоне, это вызвало неоднозначную реакцию публики с юга Казахстана. Одна девушка написала критический пост в фейсбуке, хотя казаны в этой работе были не перевернуты, а скреплены. Была сильная реакция, обсуждение этого эпизода. Ему посвятили даже передачу на телевидении. Мой нынешний проект − «Сабыр» − это форма художественного протеста. Я пытаюсь преодолеть условности уже самим фактом высказывания, для которого используются казаны, включая ментальность мою и моего народа. Здесь важно было отделить своё я как художника от различных поверий, что не дало бы мне задействовать казаны.

Вражда и кровь, лежащие в основе этой работы − есть сила, равная этой художественности. Когда ты не можешь выразить что-то словами, ты обращаешься за помощью к предмету. Различными свойствами он даёт ощущение переживания чего-то вневременного, тяжелых периодов истории. Конфликт работы «Сабыр» заключен уже в самом названии. Это призыв к спокойствию. Это иллюстрация того процесса, происходящего в голове, и переживания, которое возникает, когда человек не может найти ответа. Мыслительный процесс идёт через выстраивание каких-то контрастов. К какому-то вопросу подсознание выводит какой-то неожиданный ответ. Он принимает форму искры, которую ты ощущаешь как реальный ответ, истину. В то же время «Сабыр» − это призыв к спокойствию, которого не должно быть. Это нежеланное спокойствие.
В январе людям на площадях могли сказать сабыр, к ним могли бы выйти представители власти и попытаться сделать все для решения конфликта через пустые обещания. Им, вероятно, удалось бы обмануть людей, но лишь ненадолго. И спустя время январские события все равно случились бы, но уже с большей силой. Но как бы то ни было сабыр идёт вразрез с разрушительным положением стрелять на поражение, а также убивать, мучить и пытать людей.
Уверен, что «Сабыр» работает в связке с вашей серией портретов «Квадратное солнце». Вы рассказывали историю про туман, и мне хотелось бы спросить о значении январских событий в вашем процессе восприятия истории. Они до сих пор кажутся перекраивающими прежний порядок, хотя на структурном уровне мало что изменилось. И это создает ощущение некоторого разрыва с историей: Қантар перебросил нас куда-то дальше, но в силу политических ухищрений физически мы находимся в прежней точке. И мне кажется, что добавленные портреты к вашей серии как раз намекают на это прерывание истории. Қантар стал для вас такого рода преобразующим событием?
Да, портреты очень связаны с работой «Сабыр». Қантар − одно из основных событий, которые я переживаю в зрелости. Этим оно для меня очень важно, и поэтому его следы можно наблюдать в каждой работе, показанной на этой выставке. Наши власти повторяли ходы красных, они использовали оружие и те же методы подавления. В этом смысле они несут дух красных, их руки развязаны для насилия. Я встречался с людьми, получившими пулевые ранения, и пострадавшими во время пыток, чтобы написать их портреты и обжечь порохом. Их травмы и следы на телах − это то, как выглядит движение истории, внутри которой ты и сам находишься.

Плохо то, что история движется через кровь и страдания. Протесты были подавлены, в том числе через применение боевых пуль. И это происходит в наше время, когда существует множество способов и технологий для ведения диалога. Коммуникацию ведь можно выстроить по-разному и прийти к какому-то разумному решению проблем, но обязательно решению. Вместо этого был выбран язык насилия, а власти попытались скрыть и замаскировать его последствия, как будто история стояла на месте. Но нет, история ушла вперед.
Другая сторона Қантара в том, что несмотря на большие жертвы изменилось действительно немногое. А люди добивались изменений: сколько тел осталось на площадях после этого, сколько семей было убито горем от смерти детей. История, к несчастью, проложила такой кровавый путь вперед. И что бы мы ни думали, властей это застало врасплох, потому что это сильный поступок − не покидать площадей даже под угрозой получить пулю.
Уже скоро будет годовщина январских событий, и я по-прежнему чувствую, что высказался о них недостаточно.
Ваш видео-арт «Iле» сильно контрастирует с другими работами. Я посмотрел его в конце, и метафора бревна как парламента, как и единство бревна с рекой, воплощенное через историю двух любящих друг друга людей, несёт в себе невыразимое чувство надежды. На это же намекает название выставки. Или вы думаете, что для неё нет оснований?
Это действительно вопрос: можем ли мы в современном состоянии воспринимать надежду так, как она звучала в ХХ веке − периода жизни моей бабушки, с которой связана выставка? Вызовы времени очень резкие, неожиданные. И поэтому я не могу относиться к надежде, как к чему-то светлому. Мы не можем ожидать того, что все каким-то независимым от нас образом изменится к лучшему. Что власть станет более ли менее человечной, придерживаясь принципов свободы и демократии. Что экологический кризис, о котором я косвенно говорю в этой работе, будет преодолен, поскольку мы откажемся от машин и интенсивного потребления, перейдя к возобновляемым источникам энергии.

Надежда без действия, без её осуществления не имеет свойства быть надеждой. Человек стал пассивен в своём действии, но гиперактивен в потреблении. Активному состоянию всегда сопутствует тревожность, и без этой тревожности говорить о надежде сложно. Человек сильно изменился за последние столетия, и он сам сильно изменил мир вокруг себя. В этой обстановке надеяться на что-то довольно трудно: в каждую секунду проживания этого чувства рождается ещё 1000 человек − гиперактивных потребителей. Поэтому надежда, скорее всего, должна принять форму действия.
Выставка Асхата Ахмедьярова проходит до 18 сентября в Aspan Gallery по адресу Аль-Фараби, 140А